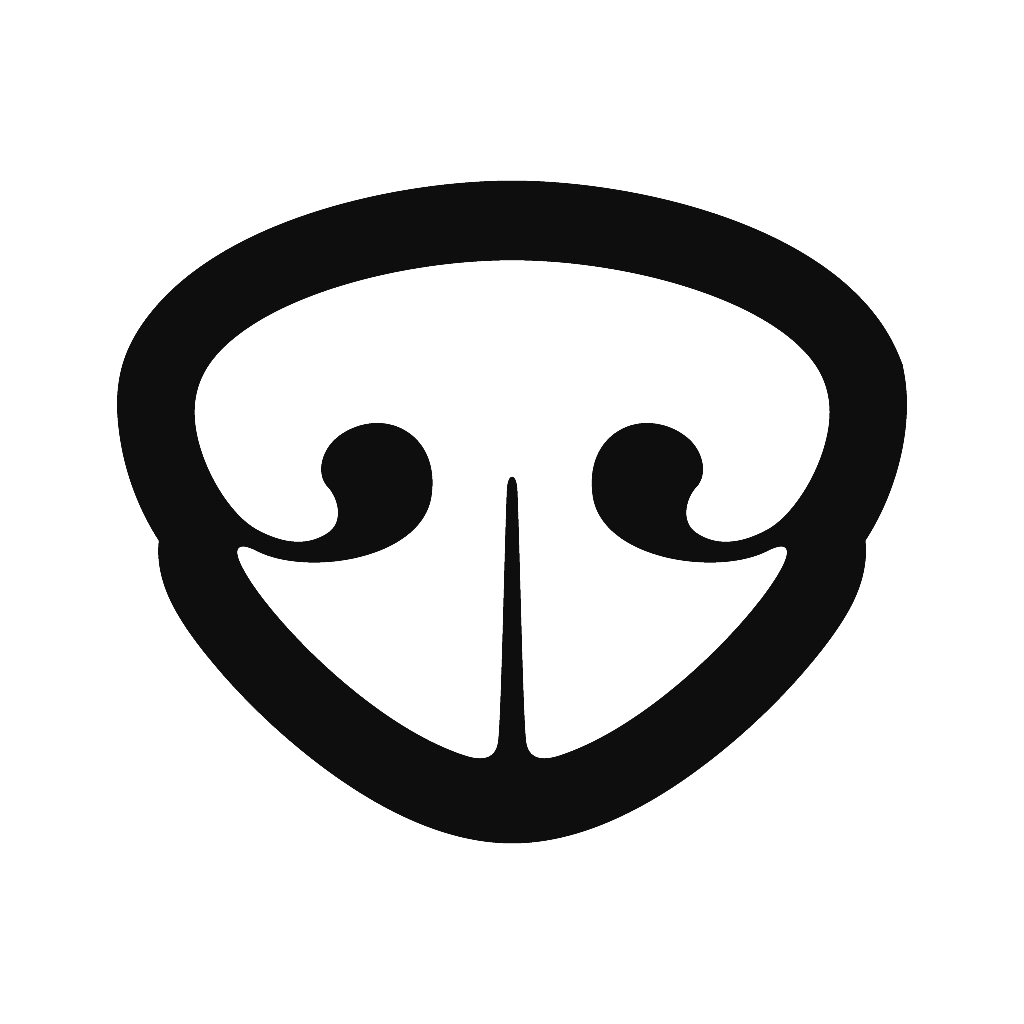Марине Рыбаковой 28 лет. Она родом из Витебска. Девушка живет в Милане и уже более 5 лет руководит собственной арт-ярмаркой и техстартапом. Этой весной Марину добавили в список Forbes 30 Under 30 в категории «Искусство и культура». CityDog.io поговорил с ней о том, как открыть успешный стартап и не «потеряться» в эмиграции. А еще узнал, как на нее влияет «беларускость» и почему это важно.
Кто попадает в список Forbes 30 Under 30?
Forbes 30 Under 30 – ежегодный список от журнала Forbes, который выходит с 2011 года. В него попадают талантливые люди до 30 лет, которые уже добились заметных результатов в своей профессии.
Финалистов определяет редакция Forbes вместе с приглашенными экспертами. Учитывают достижения, влияние, потенциал и вклад кандидатов в развитие своей отрасли.
Списки формируются по регионам (например, Европа, США, Азия) и по категориям – «Искусство», «Финансы», «Технологии», «Спорт», «Социальные проекты» и другие.
В этом году Марина Рыбакова, наша героиня, попала в него в категории «Искусство и культура».
«Попасть в такой список – круто, но это не “Оскар” и не “нобелевка”»
– Когда я получила письмо от Forbes, сначала подумала, что это какой-то спам, – рассказывает Марина. – Оно пришло без предупреждений и звонков, просто на электронную почту. В моменте перечитала его раз пять, пытаясь понять, не фейк ли это. Выглядело официально, но все равно не верилось.
Когда поняла, что все по-настоящему, были одновременно и радость, и удивление, и легкий шок. В первый день у тебя эйфория, во второй начинаешь рассказывать друзьям, получаешь кучу сообщений и поздравлений. На третий все возвращается в привычный ритм. Да, попасть в такой список – круто, но это не «Оскар» и не «нобелевка». После него глобально в жизни ничего не меняется. Значит, надо идти дальше.
Однако в искусстве – сфере, где все держится на видимости, цифрах и репутации, – такие моменты все равно очень ценны. Хотя для меня этот список – история не только про личный успех. Мне важно, чтобы кто-то в Беларуси – особенно молодые люди, которым, как и мне когда-то, казалось, что все «настоящее» происходит где-то далеко, – увидел в этом не «историю успеха», а знак, что все возможно.

Марина Рыбакова, беларуска, которая попала в список Forbes 30 Under 30.
О том, как акне и Шагал повлияли на восприятие себя: «Если бы не они, возможно, все было бы иначе»
– Я родом из Витебска. Папа был профессором, заведовал кафедрой в Академии ветеринарной медицины, мама работала там же лаборанткой. Интеллигентная семья, но в Беларуси звание профессора еще не значит, что ты зарабатываешь много. Мы долгое время жили в общежитии, как и многие, бедно.
В новую квартиру мы переехали, когда мне было лет шесть. У меня двое братьев, и нам выделили жилье по суперсубсидии как многодетной семье. Из того времени я запомнила, что надо много учиться, стараться и получать хорошие оценки.
Во многом на мое становление повлияли родители. Мама – из западной части Беларуси, говорила со мной по-беларуски, папа – полностью русскоязычный, витебский. Такой микс создавал внутреннюю полярность, но в то же время давал возможность быстро адаптироваться. Дома постоянно звучали оба языка, поэтому для меня было нормальным жить в среде, где разговаривают по-разному.
Где-то в 14–16 лет я начала по-настоящему задумываться, где живу: что за город Витебск, что за страна Беларусь. Не с позиции школьной программы, а с попыткой понять, что я сама об этом думаю. Тогда у меня появилось внутреннее желание найти примеры успеха – чтобы за что-то зацепиться и почувствовать, что и у нас может быть нечто узнаваемое в мире.
В то же время у меня было серьезное акне, которое сильно влияло на мой образ жизни. Друзей в школе у меня почти не было, да и вне ее тоже. Я не ходила на тусовки, у меня не было отношений. Почти все свое время я проводила дома. Училась, сидела в интернете, много общалась онлайн с людьми из разных стран.
Друзьям из других уголков мира мне часто приходилось объяснять, где находится Витебск, что вообще такое Беларусь. Люди просто не знали. Мне и самой было интересно узнавать новое, поэтому я гуглила интересные факты о том, где живу. В итоге везде всплывал только Шагал. Буквально в каждом источнике его имя. Шагал – то, что узнают сразу, изучают в учебниках, преподают не только в Беларуси.
Это меня зацепило. Внутри поселилось какое-то зерно. Я нашла пример, за который можно держаться. Потом, когда училась в Вильнюсе, писала и курсовые, и дипломную работу про него. Он всегда был рядом в качестве своеобразного якоря или маячка.

О свободе и ощущении собственной значимости: «Когда тебя с детства выделяют учителя, в какой-то момент перестаешь сомневаться и просто делаешь то, что должна»
– После школы я уехала учиться в ЕГУ – беларуский университет в Вильнюсе. Почему именно Вильнюс? Думаю, все выросло из периода, когда у меня было больше онлайн-друзей, чем реальных. Я проводила много времени дома, часто смотрела видео про путешествия. Шоу «Орел и решка» тогда только набирало популярность, и меня тянуло в ту же сторону – к ощущению возможности жить по-другому.
К тому же я выросла в очень религиозной семье, где было много строгих правил. Например, мне нельзя было смотреть «Гарри Поттера», играть в карты; многое из того, что считалось обычным у других, у нас попадало под запрет. Это рождало внутреннее напряжение и постоянное желание вырваться из него. Хотелось больше автономии и личного пространства – и, по сути, любой выход наружу становился способом эту свободу нащупать.
Еще один фактор, который повлиял на решение поступить за границу, – то, что с детства я была, как тогда говорили, одаренной. Я рано начала разговаривать, читать и писать. Мне легко давались языки и гуманитарные предметы. Часто ездила на олимпиады по беларускому, русскому, английскому, истории. Нас, олимпиадников, в школе было всего двое, поэтому нас выделяли учителя: отпускали с уроков, отправляли на конкурсы, давали больше выбора.
Олимпиадная «выделенность» сильно повлияла на самоощущение. Сначала ты просто оправдываешь ожидания учителей, потом начинаешь верить, что действительно можешь всё. Когда приходит момент подаваться на гранты в разные европейские университеты, ты не думаешь «а вдруг не получится». Ты просто делаешь. Потому что у тебя уже есть подтверждение, что ты не зря выделялась.
В итоге я выиграла грант ЕГУ сразу после школы и поехала учиться. Родители восприняли переезд спокойно. Думаю, они были по-своему рады, но не очень это показывали.
А как не бояться начинать свои проекты?
– На третьем курсе я поехала на обмен в Италию – в маленький университет на юге, в довольно захолустным городке. Хотя на его размеры мне было плевать: я просто хотела в Италию. За год выучила язык, даже сдавала экзамены на итальянском. Когда вернулась в ЕГУ, четко знала: хочу переехать в Милан. Это был первый по-настоящему осознанный шаг к эмиграции – туда, где никто не говорит по-русски.
Потом поступила в магистратуру, как и хотела, в Милане, получила стипендию. Помогло, что она зависела не только от оценок, но и от дохода семьи, а в моем случае он был минимальным. Честно говоря, особого желания учиться дальше не было, но хотелось переехать и двигаться дальше.
Помню, что сняла комнату через студенческое агентство. Примерно на втором месяце жизни в Милане меня ограбили прямо в квартире. Это был один из поворотных моментов – только тогда я резко осознала, насколько всё может быть нестабильным.
К тому времени у меня были идеи своих проектов, на которые я никак не могла решиться. Тормозил страх. Думала: «А вдруг ничего не получится?» Поэтому проще было и не начинать. Но после нескольких событий – ограбления и смерти близкого человека – я поняла: жизнь короткая. Всё хрупко. И если что-то хочешь, надо делать.
Сперва я начала вписываться в чужие инициативы. Кто-то звал на выставки, я соглашалась. Там я знакомилась с людьми, которых позже приглашала в собственные проекты. Идеи в принципе не рождаются в вакууме – все идет через общение и участие других людей. Поэтому, как бы ни было комфортно наедине с собой, полезные знакомства – это важно.
Параллельно пробовала запускать что-то сама: проходила онлайн-курсы, искала форматы. Все было так или иначе связано с искусством. В какой-то момент появилась идея арт-ярмарки. Это было осенью, еще до ковида. Уже в феврале, когда начался локдаун, мы официально зарегистрировали некоммерческую организацию. Так все и появился ReA! Art Fair.
Что почитать по теме: Все ваши планы рушатся, и вы не понимаете, что с этим делать? Возможно, у вас фрустрация. Почитайте, как выйти из этого состояния

Фото с арт-ярмарки ReA! Art Fair в Милане, которую открыла наша героиня.
О проекте, который заметили в Forbes: «Чем-то похож на “Арт-Минск”»
– Суть ярмарки ReA! Art Fair – мы представляем работы отобранных молодых художников, у которых пока нет громкого имени.
Идея сделать ярмарку только для молодых артистов возникла в момент, когда мы поняли, что этого никто не делает. Когда я только начинала свои проекты или когда меня приглашали в другие, всегда сталкивалась с тем, что молодым художникам очень сложно войти на арт-рынок. Их этому не учат – ни в университетах, ни в академиях.
Каждый год, осенью или немного раньше, мы принимаем заявки от художников. Обычно их около 600–700. Из них команда кураторов – шесть человек – отбирает примерно 100. Дальше начинаются обсуждения, какие из них будут представлены, как именно будет устроена экспозиция.
Мы арендуем большие пространства, постиндустриальные выставочные площадки – примерно от тысячи до полутора тысяч квадратных метров. Мне всегда хотелось делать масштабный проект, потому это привлекает больше зрителей. Когда ты обещаешь им яркий, насыщенный опыт, они приходят.
В команде около 20 человек, иногда больше, иногда меньше. Все мы из арт-среды, и для каждого это не просто проект, а личная история и миссия. Возраст у нас примерно совпадает с художниками, которых мы отбираем, поэтому мы хорошо чувствуем их мотивацию, понимаем, как с ними говорить и что им важно.
Для многих участников ярмарка становится трамплином: кто-то после этого начинает работать с известными брендами вроде Gucci или Schiaparelli, кто-то делает собственные крупные проекты. Приятно видеть, как карьеры действительно начинают взлетать.
Если сравнивать с Беларусью, сложно провести прямую параллель. Возможно, ближайший по формату проект – «Арт-Минск». Там тоже показывают молодых художников. Хотя, насколько я знаю, у них есть проблема повторяющихся имен – в фестивале в большинстве своем участвуют одни и те же авторы. Наша идея, наоборот, в том, чтобы каждый раз находить новые таланты, давать шанс тем, кто его еще не получал.
Что почитать по теме: В Минске проходит фестиваль искусств «Арт-Минск 2025». Узнали, что о нем думают минчане: «Смотрится слабо»

Команда, которая работает вместе с Мариной над арт-ярмаркой. Сама Марина – в центре фото.
О беларуской идентичности в эмиграции: «Долгое время я никому не говорила, что из Беларуси»
– Несмотря на историю моей семьи, долгое время моя «беларускость» в эмиграции оставалась в тени. В Италии мне не хотелось соответствовать образу из местных стреотипов – «восточноевропейская женщина», которая приехала сюда ради замужества или из-за нужды. Мне с самого начала было важно показать, что я всё сделала сама.
Поэтому долгое время я предпочитала не говорить, что из Беларуси. Не из-за стыда – скорее, из-за непонимания. Беларусь почти не звучала в новостях, многие даже не знали, где она. Кто-то вспоминал Чернобыль, но чаще приходилось буквально рисовать карту руками. И каждый раз это вызывало неловкость – как будто я оправдываюсь за свое происхождение. Хотелось этого избежать, что я и делала.
Мне часто говорили: «Ты так хорошо говоришь по-итальянски!» – и это почему-то ранило. В этих словах уже пряталось ожидание, что я должна говорить плохо. Напоминание: ты здесь чужая.
Я научилась сливаться с толпой. У меня распространенное имя – Марина. Внешность тоже «универсальная», по ней не сразу поймешь, откуда я. И я этим пользовалась, пряталась.
Только начиная с 2020 года я начала потихоньку возвращать себе свою «беларускость». Этот процесс небыстрый, и он все еще продолжается.

Фото с арт-ярмарки, которую организовала наша героиня.
Иногда, выезжая за пределы Италии, я автоматически говорю: «Я из Италии», особенно если это мимолетный разговор, например, с таксистом. Мне просто не хочется начинать объяснять, где Витебск и почему я не там.
Потому что вопрос «откуда ты?» всегда больше, чем кажется. Это не только про географию. Это и про «где ты живешь», и «кем ты себя чувствуешь». Принять свою часть из Беларуси для меня не абстрактная идея, а очень конкретные действия. Я покупаю книги на беларуском, читаю, возвращаю себе связь с языком, культурой, пластом памяти.
Однако в Беларусь я сейчас почти не езжу. Иногда родители спрашивают: «А может, все-таки вернешься в Витебск?» В такие моменты у меня обычно «кипящий котел»: работа, проекты, планы. Помню, как-то мама добавила: «Ну, будешь учительницей английского в университете». Я даже не знала, что ответить. Звучало так, будто речь идет о жизни, которая никогда и не была моей.
Моя следующая цель – Америка. Я поняла, что именно там больше всего возможностей для роста, особенно если ты не боишься пробовать новое. Италия – классная база: мне здесь комфортно, я точно буду возвращаться или даже совмещать жизнь между двумя странами. Но сейчас Америка для меня – это про движение. Там иммигрантство не нужно объяснять или оправдывать.
К тому же если говорить о планах, то я, скорее всего, немного смещу фокус в сторону технологий – это проще монетизировать и дает больше гибкости. Но и ярмарка, конечно, продолжится. Сейчас я думаю о том, как создать нечто вроде «американской головы» проекта – новое направление, локализованное под Штаты. Пока все это в разработке, но желание точно есть. Как и вера, что все получится.
Перепечатка материалов CityDog.io возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.
Фото: Unsplash.com, личный архив героини.